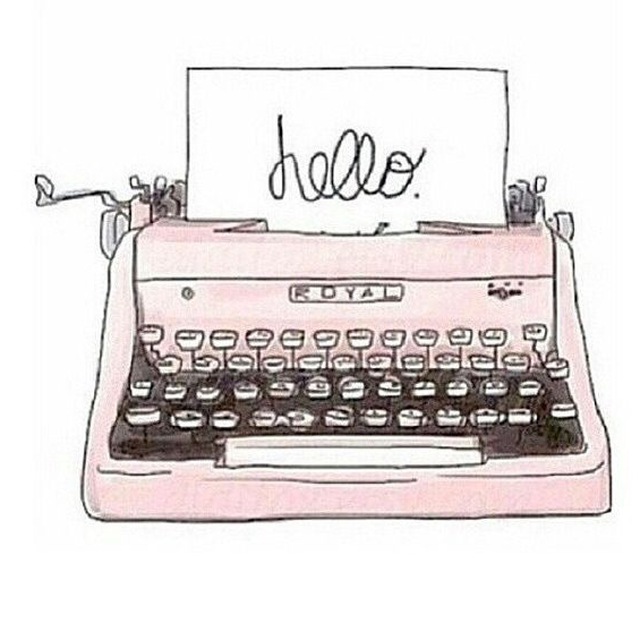Про самоцензуру
В связи с историей о задержании и чудесном освобождении (https://www.novayagazeta.ru/news/2019/06/11/152436-zhurnalist-ivan-golunov-vyshel-na-svobodu) журналиста Ивана Голунова, а также о том, что воспоследовало (https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/12/80863-nesoglasovannoe-shestvie-zhurnalistov-posle-dela-golunova-moskva-tsentr-12-iyunya), вспомнила важную тему, о которой еще не писала.
Когда-то я тоже была журналистом. Писала про экономику культуры, рецензировала кино и книги, потом рулила отделом культуры в «Русском Репортере». Журналистскими расследованиями я не занималась, но даже в моей тихой и уютной сфере прекрасного постепенное схлопывание медийного пространства 2010-х ощущалось очень хорошо.
Издания закрывались. Ньюсмейкеры уезжали (или переставали работать, а значит, быть ньюсмейкерами). Целые темы становились нежелательными для упоминания в СМИ. Скажем, на моей памяти журналистам запретили материться и пропагандировать гомосексуализм, что бы это ни значило. По рукам ходили списки стоп-слов и стоп-фамилий для редакций теленовостей.
Шесть лет назад я ушла из журналистики – но не от всего вышеперечисленного.
Быстро выяснилось, что в прокатном кино и сериалах материться и курить тоже нельзя. А также пропагандировать гомосексуализм, хотя никто по-прежнему точно не знает, в чем это выражается.
Потом выяснилось, что большинство запретов – не именно эти, но целая куча сопутствующих, – не в законе и даже не на бумаге. Они у нас в головах. У всех, в том числе и у меня.
Придумывая очередную заявку, я заранее имею их в виду. Собираю историю как бы вокруг этих слепых пятен, огороженных ментальной колючей проволокой, - потому что кому же хочется потратить полгода-год своей жизни на сценарий, который никто никогда не купит, не снимет и не выпустит на экран.
Сперва этих слепых пятен было немного. Вокруг них можно было придумать неплохую историю, ни разу ни обо что не споткнувшись. Но с годами они разрослись. И теперь есть целые большие темы, про которые я с тоской думаю, что их можно сделать только на английском, для зарубежного проката – вот как Чернобыль. Или Беслан. Или «Курск». По сути, любая масштабная общественная трагедия из новейшей российской истории.
Спрашивается: предлагала ли я кому-нибудь заявку про тот же Беслан? Нет, не предлагала. И даже не придумывала. Потому что я заранее знаю ответ – все десять или двадцать ответов, которые я получу на такую заявку в разных продакшнах и на разных каналах. И самое отвратительное, что этот ответ так давно и прочно сидит у меня в голове, что уже кажется моим собственным.
А на днях я поймала себя и вовсе за тошнотворным. Когда Голунова еще не отпустили и даже не собирались, я начала писать в фейсбуке пламенный пост про неправосудные задержания, свободу и справедливость. А потом вдруг подумала: вот я напишу, значит, публичный пост на 1000+ подписчиков. А вдруг этим я наврежу проекту, над которым прямо сейчас работаю? И похороню не только свою работу за два с половиной года, но и работу всех моих коллег?
Подумала – и не стала ничего публиковать. Вместо этого пожаловалась подруге-сценаристу – вот, мол, самоцензура во весь рост. А она, оказывается, тоже ничего не написала в фейсбуке, потому что ее проект зависит от финансирования Минкульта. И продюсеры наши, кстати, ничего не пишут – на всякий случай.
С одной стороны, заметив такое, хочется сказать себе: в жопу самоцензуру, надо быть честными и последовательными в отстаивании своих убеждений! А с другой – имею ли я право требовать, чтобы люди ради своих (или моих) убеждений жертвовали делом своей жизни? И готова ли я сама на такую жертву?
Хотя, с третьей стороны, мы ведь, получается, и так и так делом жизни-то жертвуем. Просто потому, что самоцензура убивает это самое дело ничуть не меньше, чем отсутствие финансирования или запрет к показу.